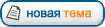Попытки экспериментального обнаружения эффекта наследования приобретенных признаков предпринимались огромным количеством исследователей, пытавшийся так или иначе найти хоть малейшую возможность такого механизма в сложных организмах (в отдельных клетках это было обнаружено), но все эти попытки окончились неудачей. Удаляемые в самом раннем детстве хвосты так и не отражались на потомстве даже в течение многих поколений. То же происходило и в случаях любых других приобретенных признаков.
Учитывая, что если бы такой механизм вообще существовал, то он бы обязательно бы проявлялся, отрицательных результат всех этих опытов следует иметь всегда в виду для любых сопоставлений данных.
Ученым удалось определить ген, вызывающий уникальное состояние организма - врожденную невосприимчивость к боли:
Для того, чтобы у человека возникла врожденная невосприимчивость к боли, он должен унаследовать от каждого из родителей по измененному гену, получившему обозначение "Эс-Си- Эн-9-Эй". В норме эта пара генов контролирует выработку протеина "Эн-эй- ви-1-7", отвечающего за передачу болевого сигнала через внешние мембраны нервных клеток. У людей, в организме которых имеется лишь один такой неизмененный ген, нужный протеин вырабатывается и они ощущают боль. Если же человек унаследовал от родителей два измененных гена, то протеин-передатчик не вырабатывается и чувство боли у него отсутствует. "Удивительно, что наличие одного-единственного гена в организме приводит к столь масштабным последствиям", - заметил один из авторов исследования, генетик из Университета провинции Британская Колумбия Майкл Хэйден.
Обезьяны не реагируют на рёв незнакомых им хищников:
Обезьяны, живущие на островах, не реагируют на аудиозаписи «голосов» хищных кошек, таких как леопарды и львы. Но сбегают в первые секунды после воспроизведения человеческих голосов.
Джессика Ёрджински из Университета Калифорнии и Томас Циглер из Немецкого центра изучения приматов устанавливали динамики под излюбленными деревьями одноцветных носачей (Nasalis concolor), изолированных от хищников на островах последние полмиллиона лет.
Ученые проигрывали несколько звуков: издаваемые большими кошками с большой земли, голоса слонов, также не знакомых приматам, песни птиц, хрюканье свиней и человеческие голоса. Три последние группы животных обитают на острове, правда охотятся на обезьян только люди.
Результаты разделились на три группы: после незнакомых звуков обезьяны переглядывались между собой, а потом через 4-5 секунд не спеша уходили, при звуках свиней или птиц они не уходили, а вот от человеческих голосов сбегали меньше чем через секунду.
Ученые считают, что их работа должна внести вклад в понимание врожденной реакции животных на образы и звуки других видов. На сегодняшний день считается, что некоторые защитные реакции, например способность цыплят различать хищных и нехищных птиц, запрограммированы генетически, в то время как большинство вырабатывается в течение жизни. Самым малоизученным остается элемент воспитания – передачи знаний от знакомых с хищником особей.
Любителями классической музыки становятся, а не рождаются:
Глубокое понимание сложной классической музыки определяется в первую очередь опыт и образование, а не наследственность.
...Сканирование мозга показало, что восприятие классической музыки (по крайней мере, музыкально талантливыми людьми) в значительной степени определяется опытом.
...Таким образом, заключает Маргулис, у сторонников теории врождённой предрасположенности к пониманию классической музыки исчезает последний аргумент. Этому пониманию можно научить. Хотя требование наличия слуха никто не отменял.
В статье Л.В. Полежаева Можно ли изменить инстинкт и поведение животных?:
Впервые такой вопрос поставил известный немецкий экспериментальный эмбриолог Г.Гирсберг.
...Он пересаживал мозг зародышей остромордой лягушки (Rana arvalis; семейство лягушковых), взятый на стадии нейрулы и смыкания нервной пластинки, на место удаленного мозга чесночницы обыкновенной (Pelobates fuscus; семейство чесночниц), и наоборот....
химерные создания по виду ничем не отличались от своих нормальных собратьев, но поведение их было необычным. По окончании метаморфоза они не выходили из воды и не прыгали, как лягушки, а подобно чесночницам ползали на брюхе, выкапывали в сыром песке довольно глубокие ямки и прятались в них. Однако так глубоко, как чесночницы, они в землю не зарывались - пяточные бугры у них оставались маленькими, как у лягушек. Таким образом, изменилось только поведение животных, а формы тела и разных органов были прежними. Наследственно обусловленный инстинкт, поведение животных контролировались мозгом.
...
...спустя 40 лет после его работ немецкие эмбриологи Г.Андерс и Е.Росслер заинтересовались проблемой изменения пищевого инстинкта и поведения животных при пересадке мозга. Они работали на головастиках двух видов амфибий - обитающих в Африке шпорцевой лягушки (Xenopus laevis) и карликового когтеносца (Hymenochirus boettgeri).
...Трансплантацию проводили на стадии нейрулы, т.е. в тот момент, когда у зародышей начинает закладываться нервная система. Реципиенту-зародышу пересаживали участок мозга донора, включающий фрагмент среднего и продолговатого мозга. В описываемых опытах у химер продолговатый мозг был от донора, а средний - от реципиента. Между нервной тканью донора (шпорцевого головастика) и реципиента (карликового когтеносца) устанавливались нормальные нервные связи: аксоны нервных клеток трансплантата врастали в ткани мозга хозяина. Эти химерные создания фильтровали пищу так же, как это делают шпорцевые лягушки. В 42% случаев они ритмично открывали рот и глотку. Наряду с этим у них сохранилась реакция хозяина, и они заглатывали маленьких рачков. К таким ритмическим движениям мышц глотки могли побудить нейроны донора. Однако под влиянием среднего мозга хозяина осуществлялась его программа с участием программы донора.
Итак, все эти опыты на взрослых лягушках и головастиках показывают, что в основном поведение животных можно переопределить, пересаживая чужеродный мозг, хотя в известной степени такой эффект может зависеть и от повреждения мозга реципиента.
...
...успешные пересадки нервной ткани между такими особями позволили предположить, что трансплантация нейральных зачатков возможна и между животными разных классов и даже типов. Впервые функциональная и структурная совместимость нервных систем позвоночных и беспозвоночных была продемонстрирована в культуре тканей. Попытку объединить нервные системы насекомых и млекопитающих осуществила группа научных сотрудников Института биологии развития им.Н.К.Кольцова РАН (руководитель Л.И.Корочкин) и Института морфологии человека РАН (руководитель С.В.Савельев). Нервную ткань насекомого - мушки-дрозофилы, хорошо изученной генетиками, они пересаживали в нервную трубку зародышей амфибий, мышей и крыс.
...пересаженные клетки уничтожались фагоцитами реципиента. Тогда исследователи с помощью микроманипулятора стали вводить нервные клетки зародышей дрозофилы в замкнутую нервную трубку зародышей амфибий: сибирского углозуба (Hynobius keysererling) и шпорцевой лягушки. Опыт был успешен: в большинстве случаев пересаженная нейральная ткань мушки попадала в третий желудочек головного мозга амфибий. Там она развивалась, и между нервными клетками донора и реципиента устанавливалась тесная связь.
В последующих опытах нейральные клетки дрозофилы трансплантировали в нервную трубку амфибий (саламандр, тритонов, шпорцевых и остромордых лягушек), а также беспородным мышатам и новорожденным крысятам. После пересадки животных фиксировали в разные сроки до 6 мес и их мозг изучали под световым и электронным микроскопом.
...Таким образом, эксперименты показали, что объединение нервных систем позвоночных и беспозвоночных вполне реально. Этот вывод подтверждают следующие факторы: во-первых, функциональная интеграция нервных клеток насекомых и мозга позвоночных; во-вторых, морфологические контакты между трансплантатом и реципиентом; в-третьих, длительная жизнеспособность клеток дрозофилы, которая обеспечивает их влияние на мозг реципиента. Более того, хорошая изученность генома дрозофилы и возможность получения нужных мутаций дают основания для использования отдаленной ксенотрансплантации в медицине как инструмент целенаправленного воздействия на поведение и компенсации функций мозга.
Белковая наследственность - новая глава генетики:
На рубеже второго и третьего тысячелетий открыта особая форма наследственности. Так называемые прионные белки способны передавать информацию о своей пространственной форме от одного белка к другому без участия ДНК.
...Викнер предположил, что мы имеем дело с прямой передачей информации от белка к белку... получалось, что признак может наследоваться без участия ДНК.
.. на примере дрожжевого белка открыт новый принцип наследственной передачи признаков. "Белковая наследственность" - так назвали ученые свойство прионоподобных белков передавать информацию о своей пространствен ной форме без участия ДНК. Насколько широко распространено это явление? Прионоподобные белки уже обнаружены у некоторых грибов, возможно, в скором времени они будут найдены и у других организмов.
... Есть теория, что прионоподобные белки участвуют в формировании долговременной памяти человека. Если это действительно так, то белковая наследственность, возможно, связана с важнейшей функцией мозга.
... Пока неясно функциональное назначение той или иной формы, но в природе нет ничего лишнего - следовательно, этот механизм для чего-то нужен. В случае дрожжей он, вероятно, служит целям адаптации.
Александр Марков Еще раз о наследовании приобретенных признаков:
Было установлено, что наследственная информация записана в молекулах ДНК особым кодом, который был расшифрован в 60-е годы 20-го века. Информация, записанная в ДНК, сначала должна быть "переписана" на молекулу РНК (этот процесс называется "транскрипция"). Затем специальные сложные молекулярные комплексы - рибосомы - "считывают" информацию с молекулы РНК, синтезируя молекулу белка в точном соответствии записанной в РНК "инструкцией". Этот процесс называется "трансляцией". Белки выполняют огромное множество функций и, в конечном счете, именно они определяют строение организма (фенотип). Таким образом, информация движется в одном направлении - от ДНК к РНК, от РНК - к белкам. Никаких механизмов переноса информации в обратную сторону - от белков к РНК или от РНК к ДНК - поначалу обнаружено не было, что и укрепило веру в невозможность такого переноса.
Потом, правда, оказалось, что есть вирусы, у которых хранилищем наследственной информации служат молекулы РНК (а не ДНК, как у всех прочих организмов), и у них есть специальные ферменты, которые умеют осуществлять "обратную транскрипцию", т.е. переписывать информацию из РНК в ДНК. Созданная таким путем ДНК встраивается в хромосомы клетки-хозяина и размножается вместе с ними. Поэтому с такими вирусами очень трудно бороться (один из них - это вирус ВИЧ). Но вот "обратной трансляции" - переписывания информации из белков в РНК - так и не обнаружили. По-видимому, такого явления в природе действительно не существует.
...
У одноклеточных организмов, понятное дело, нет разделения "соматические" и "половые" клетки. Их единственная клетка является одновременно и "половой", и "соматической", и любые произошедшие в ней изменения генов, естественно, немедленно передаются потомкам. А гены у одноклеточных организмов изменяются довольно часто. И это не только мутации. У них очень широко распространен так называемый "горизонтальный обмен" генетическим материалом. Бактерии выделяют в окружающую среду фрагменты своей ДНК, могут поглощать такие фрагменты, выделенные другими бактериями (в том числе и относящимися к совершенно другим видам!) и "встраивать" эти кусочки чужого генома в свой собственный.
У многоклеточных организмов "горизонтальный обмен", по-видимому, играет гораздо меньшую роль. Вместо него развились более совершенные механизмы "перемешивания" и перекомбинирования наследственной информации, связанные с половым размножением. К тому же половые железы у многоклеточных, особенно высших, действительно ограждены от влияний внешней среды особым барьером, через который могут проникать только очень немногие вещества (в основном, это небольшие молекулы).
Один из способов "горизонтального обмена" генами, от которого не защищены даже многоклеточные, - это вирусный перенос. Известно, что ДНК вируса может встраиваться в геном клетки-хозяина, а потом снова отделяться от него и формировать новые вирусные частицы, которые могут заражать другие клетки. При этом вместе с собственной ДНК вирус может случайно "захватить" и кусочек ДНК хозяина и таким образом перенести этот кусочек в другую клетку, в том числе - и в клетку другого организма. В большинстве случаев вирусы, размножающиеся в клетках организма (например, человеческого), все-таки не могут пробраться сквозь "барьер Вейсмана" и заразить половые клетки. Но все же иногда вирусная инфекция передается потомству [1]. А ведь это не что иное, как наследование приобретенного признака! И не важно, что от такого "признака" обычно один только вред. Вирус ведь может "прихватить" с собой и какой-нибудь полезный кусочек ДНК (хотя вероятность этого, конечно, крайне мала!).
...
Недавно открыто еще несколько способов передачи по наследству приобретенных признаков. Эти способы не связаны напрямую с изменениями самого "текста", записанного в структуре молекул ДНК, то есть с мутациями.
... Один из таких "эпигенетических" механизмов - метилирование ДНК. Оказалось, что в процессе жизнедеятельности к молекулам ДНК в клетках (в том числе, и в половых) специальные ферменты "пришивают" метильные группы (-CH3). Причем к одним генам метильных групп пришивают больше, к другим - меньше. Распределение метильных групп по генам ("паттерн метилирования") зависит от того, насколько активно тот или иной ген используется. Получается совсем как с "упражнением" и "неупражнением" органов, которое Ламарк считал причиной наследственных изменений. Поскольку "паттерн метилирования" передается по наследству и поскольку он, в свою очередь, влияет на активность генов у потомства, легко заметить, что здесь может работать совершенно ламарковский механизм наследования: "натренированные" предками гены будут и у потомства работать активнее, чем "ослабевшие" от долгого неиспользования.
Другой вариант "эпигенетического" наследования приобретенных признаков основан на системах взаимной активации и инактивации генов. Допустим, ген А производит белок, одно из действий которого состоит в блокировании работы гена Б, а ген Б, в свою очередь, кодирует другой белок, способный "выключать" ген А. Такая система может находиться в одном из двух состояний: либо ген А работает, и тогда ген Б выключен, либо наоборот. Допустим, что переход системы из одного состояния в другое может происходить только в результате какого-то особенного внешнего воздействия, и случается такое редко. То состояние, в котором находится эта двухгенная система в клетках матери, будет через яйцеклетку передаваться ее потомству (поскольку сперматозоид содержит пренебрежимо малое количество белков). Если же в течение жизни матери система переключится в другое состояние, то этот приобретенный признак передастся потомству, родившемуся после "переключения". Опять получается наследование по Ламарку.
... Группа австралийских иммунологов собрала довольно убедительные данные, показывающие, что изменения, приобретенные генами иммунных белков в течение жизни организма, иногда могут передаваться по наследству. И тогда потомство оказывается прямо от рождения более устойчивым к некоторым возбудителям. Австралийцы предположили даже механизм, благодаря которому приобретенный признак (ген нового антитела) может быть передан из лимфоцитов в половые клетки. По их мнению, лимфоциты образуют внутри себя некое подобие РНК-содержащих вирусов, которые захватывают молекулы РНК, несущие информацию о строении нового антитела. Эти "вирусы собственного изготовления" выходят из лимофоцитов и разносятся с кровью по организму, попадая в разные клетки, в том числе и половые. Здесь методом "обратной транскрипции" генетическая информация переписывается с РНК на ДНК, и получившийся фрагмент ДНК встраивается в одну из хромосом половой клетки.
Еще по "горизонтальному переносу генов" читайте в Горизонтальный перенос генов и его роль в эволюции.
Итак, существуют способы переноса информации приобретенных признаков в геном, но только на уровне одноклеточных и вирусов. Просто в этом случае нет проблем передачи информации из одних клеток в другие (из соматических - в половые). Что же касается измерения генетического кода половых клеток некоторыми видами вирусов, то это так же не есть передача информации о соматических изменениях (приобретенных признаках тела) в вирусы от них - в половые клетки, а просто непосредственное искажение генетической информации вирусами, в принципе не отличающемся от других форм мутаций под воздействием повреждающих факторов.
Метилирование ДНК, в реальных экспериментах вовсе не дает эффект "совсем как с упражнением и неупражнением органов", как было показано выше, опыты даже на многих поколениях не приводят к такому виду наследования признаков.
Система же взаимной активации и инактивации генов так же не передает нового приобретенного признака, а лишь переключает уже существующие варианты.
Прежде, чем говорить о способе передачи информации о приобретенных признаках, нужно ссылаться на какой-то определенный механизм для этого.
Биологическая Обратная Связь:
Необычайное и, можно сказать, сенсационное открытие сделали нейробиологи университета Дюка, проанализировав эксперименты, в ходе которых обезьян обучали управлять механическими манипуляторами "силой мысли". Выяснилось, что обезьяны стали воспринимать подчиняющиеся им механические манипуляторы как свои собственные дополнительные конечностиСуть эксперимента сводилась к следующему. Для начала мартышек научили играть в простенькую видеоигру, управляемую джойстиком. В мозг этим мартышкам вмонтировали специальные электроды, воспринимавшие импульсы, отвечающие за сокращения мышц при движении обезьяньей руки. Так что, когда джойстик отключили, обезьяна продолжала полагать, что она играет с помощью джойстика. Впрочем, недолго: очень быстро мартышки поняли, что могут управлять игрой, и не используя конечности.
Следующей задачей стала передача команд механической руке, способной двигаться и осуществлять хватательные движения. Всего два дня потребовалось для того, чтобы обезьяны смогли сопоставить особенности движения руки с собственными двигательными импульсами. К концу обучения обезьяны владели искусственной рукой не хуже, чем настоящими конечностями.
И вот сейчас, после анализа колоссального массива данных по нейроимпульсам, полученных в ходе экспериментов, стало ясно, что обезьяны воспринимали и воспринимают эти механические манипуляторы не как замену собственным конечностям, но как дополнение, как третью руку, которой они могут орудовать одновременно со своими натуральными руками. Таким образом, мозг этих животных продемонстрировал, в буквальном смысле, замечательный потенциал к "расширяемости".
"Наша гипотеза состоит в следующем: структуры мозга способны адаптироваться так, чтобы расширять возможности организма и использовать искусственные манипуляционные дополнения без потери функциональности (натуральных конечностей). В зависимости от цели, животное может использовать и свою руку, и механический манипулятор, а иногда - и то, и другое", - заявил один из основных участников исследований, доктор Мигель Николелис.
Результаты их опытов доказывают теорию, которая в научных кругах считалась весьма сомнительной: что мозг высших приматов, включая человека, способен подстраиваться под использование искусственного инструментария вне зависимости от того, контролируются ли они мозгом напрямую, или с помощью каких-то дополнительных приспособлений. Это касается и механического манипулятора, это касается компьютерной клавиатуры и теннисной ракетки - всего, чего угодно. Все эти инструменты внедряются в наше нейронное "пространство" и воспринимаются мозгом фактически как часть организма.
"Немногие исследователи демонстрировали готовность постулировать такой выдающийся потенциал мозга к адаптации", - говорит Николелис. По его словам, долгое время считалось, что нашей способностью обучаться использованию искусственных инструментов, изготавливать их самостоятельно, а также самими творческими способностями мы обязаны коре фронтовой доли мозга, и что это характерно только для мозга человека.
"Мы предполагаем, что на самом деле способность "встраивать" новые инструменты в саму структуру мозга является фундаментальной особенностью высших приматов", - говорит Николелис. По его мнению, способность воспринимать инструменты как часть самое себя, лежит в области самосознания человека (или другого высшего примата).
Что же касается сугубо практической стороны вопроса, то очевидно, что в первую очередь результаты опытов Николелиса, его коллеги Михаила Лебедева и их сотрудников пригодятся для того, чтобы реабилитировать инвалидов, возвращая им возможность передвигаться и использовать необходимые им предметы.
Несмотря на то, что никаких вообще генетических предпосылок для использования новой "руки" не было, в течение очень короткого времени это совершенно новая возможность реализовалась наравне с "естественными" эффекторами. В этом плане образование необходимых распознавателей в мозге ничем не отличалось от образования их для поддержки любых других "условных рефлексов". Мозг высших животных оказался вполне подготовленным, связи в нем оказались достаточно предопределенными для формирования функциональных систем обладания новой "рукой". Этого не произойдет, если нет соответствующего предопределения потенциальных связей (не всякие навыки могут быть освоены). Еще более впечатляющей является придание трехцветного, как у людей, зрения животным, видящим все в двухцветных тонах: Генетики наделили мышей человеческим зрением.
Институт дистантного образования Российского университета дружбы народов Физиологические основы поведения:
В основе поведения животных лежат простые и сложные врожденные реакции - безусловные рефлексы, стойко передающиеся по наследству. Животное для проявления безусловных рефлексов не нуждается в обучении, оно рождается с готовыми для их проявления рефлекторными механизмами, включающими определенный проводниковый аппарат, т.е. готовый нервный путь - рефлекторную дугу, обеспечивающий прохождение нервного раздражения от рецептора к соответствующему рабочему органу (мышце или железе) при воздействии определенного раздражителя. Так, если нанести болевое раздражение на конечность собаки, она ее непременно отдернет. Данная реакция безусловно проявится со строгой закономерностью у любой собаки...
Самые первые врожденные реакции новорожденного детеныша: дыхание, сосание, мочеотделение и другие физиологические акты - все это безусловные рефлекторные реакции, обеспечивающие первое время существование организма. Они возникают под воздействием раздражений, идущих в основном от внутренних органов: переполненный мочевой пузырь вызывает мочеотделение, наличие кала в прямой кишке вызывает потуги, приводящие к испражнению и т.д. По мере роста и созревания животного появляется ряд других, более сложных безусловных рефлексов. Таков, например, половой рефлекс. Запах самки, готовой к размножению, вызывает у самца безусловно-рефлекторную реакцию, которая проявляется в виде последовательности довольно сложных, но в то же время закономерных действий, направленных на совершение полового акта. Вся разница между половым рефлексом и отдергиванием лапы при болевом раздражении заключается лишь в различной их сложности.
В проявлении сложной безусловно рефлекторной реакции участвует целый ряд простых безусловно-рефлекторных актов. Так, например, пищевая реакция новорожденного щенка осуществляется при участии целого ряда более простых актов - сосания, глотательных движений, рефлекторной деятельности слюнных желез и желез желудка. При этом, поскольку предыдущий безусловно-рефлекторный акт является стимулом для проявления последующего, говорят о цепном характере безусловных рефлексов.
... Сразу же после рождения детеныш млекопитающего, еще будучи связанным пуповиной с матерью, ползет к ее соскам и начинает сосать. Не вполне четкие вначале, его действия уже в течение первых часов становятся более уверенными. Сосательные движения делаются четче и результативнее, он запоминает запах матери, облегчающий ее поиск. Вскоре детеныш научается отыскивать самые молочные соски. Таким образом, его врожденная безусловная реакция сосания, как снежный ком, обрастает приобретенными реакциями - условными рефлексами.
...
Несмотря на то, что вопрос о наследовании приобретенных признаков в современной генетике казалось бы давно "снят с повестки дня", проблема, связанная с наследованием условных рефлексов, постоянно всплывает на поверхность. В частности, она представляет собой одну из "болевых" точек практического собаководства. В большинстве руководств по служебному собаководству можно прочитать, что если собак производителей не дрессировать, то от них будут рождаться глупые щенки.
... Вопрос о наследовании условных рефлексов - индивидуальных приспособительных реакций организма, осуществляющихся посредством нервной системы, - частный случай идеи о наследовании любых приобретенных признаков организма. Эта идея - некогда предмет ожесточенных дискуссий - ныне окончательно отвергнута. Все опыты, которые проводились для доказательства наследования приобретенных признаков, при проведении правильно поставленных экспериментов не подтвердились.
Отметим главную особенность: все рефлексы "созревают", каждый - в определенной стадии развития организма. При этом, если вместо сосания насыщать организм пищей как-то напрямую, но не разовьются все другие "безусловные цепные рефлексы". Возможно, что если питание не прекращать подавать через пуповину, то и само сосание не реализуется, несмотря на то, как оно естественно предрасполагается строением организма млекопитающих.
Если учесть все сказанное, становится достаточно очевидно, что "созревание" очередного рефлекса происходит тогда, когда возникают условия, которые вызывают неизбежное развитие этого рефлекса. Это ничем принципиально не отличается от того, как под действием генетического кода специализируются клетки в зависимости от своего текущего окружения.
Можно уверенно утверждать, что в генетическом коде не запрограммированы все эти рефлексы, все нейроны и их связи, участвующие в этих рефлексах (для чего просто объема кода не достаточно). Развитие же приводит к вполне неизбежным результатам, исходящим из существующего генетического кода. Специфика формы, строения тела, а также внешние факторы, определяют условия неизбежности развития характерных для организма реакций (например, смотрите Наследственный механизм регуляции роста коренных зубов):
...ученые не склонны всю регуляторику сваливать на гены...
развитие второго зуба контролируется двумя противодействующим силами: силой активирующего сигнала от мезенхимы челюсти и силой тормозящего сигнала от растущего первого моляра. От их соотношения и будет зависеть размер второго зуба. На определенной стадии развития второго моляра от него отрастает назад зачаток третьего моляра. Сроки закладки этого зачатка и размер третьего моляра опять-таки зависят от силы мезенхимного активатора и тормозящего сигнала, посылаемого вторым моляром. То есть темпы роста коренных зубов и их размеры зависят от разницы между количеством активатора и ингибитора. (Косвенно об этом свидетельствует и такой факт: мутации, блокирующие фактор-ингибитор, приводят к образованию дополнительных моляров или дополнительных бугорков на коронках.)
Развивающийся зуб определяет судьбу следующего за ним зуба, а тот, в свою очередь контролирует судьбу следующего. И не требуется никаких особых наборов генов на каждый зуб. Теоретически, для регуляции развития всех моляров достаточно двух генов: один отвечает за количество мезенхимного активатора, а другой включает выработку ингибитора в развивающемся зубе. В действительности, при росте зубов работает не один такой ингибитор, а несколько, например эктодин (Ectodin) и фоллистатин (Follistatin).
Любые поведенческие реакции обеспечиваются организацией и оптимизацией сети межнейронных связей возбуждающего и тормозного характера, обеспеченной специфическими нейромедиаторами для передачи импульсов. Эта сеть по-любому должна сформироваться говорим ли мы о "безусловных" или об "условных" рефлексах и она не является записанной не уровне генетической информации (в разных организмах она может различаться многими индивидуальными особенностями даже для однояйцовых близнецов).
Начальное предопределение, следуя неизбежному из текущих условий и текущего состояния организма пути, приводит определенному результату, но стоит изменить условия, определяющие результат, и тот станет иным даже в случае "безусловных рефлексов". И теория вероятностей, которая часто приходит в голову при таких рассуждениях, совершенно не причем.
Точная аналогия такого предопределения пути развития: какой бы ни была генетическая обусловленность формы дерева, но посаженная в плодородную почву и в обычных для этого вида условиях оно вырастит максимально эффективно, на скудной почве будет чахлым деревцем, а в тундре вообще примет кустарниковую форму, даже если никакие его предки никогда в тундре не были. При изменении же генетического кода (мутация, повреждение, искусственная замена фрагмента) произойдет скачкообразное изменение тех свойств, которые данный фрагмент обеспечивал влиянием на развитие в данных условиях.
Еще несколько фрагментов из статьи Роберта Пломина Наследственность и воспитание):
Волна признания генетического влияния на поведение грозит поглотить другие, не менее важные результаты этих исследований, неопровержимо свидетельствующие о роли среды. Разнообразие сложных поведенческих реакций, представляющих интерес для психологов и общества, вызвано, по крайней мере, в той же степени воздействием среды, как и влиянием наследственности.
...Генетическое влияние на поведение многофакторно, т. е. обусловлено суммарным действием большого числа генов, эффект каждого из которых невелик. Другими словами, генетический контроль сложного поведения не укладывается, подобно менделеевскому наследованию признаков гороха или неко¬торых заболеваний, таких как серповидноклеточная анемия, в детерминистскую модель воздействия одного гена, не зависимого от влияния других генов и среды.
...Поскольку однояйцевые близнецы / генетически идентичны, то причины, по которым у одного из них диагностируют шизофрению, а у другого — нет, скорее имеют отношение к среде, чем к наследственности. Поэтому термин «генетика поведения» в некотором смысле неверный, так как эта наука изучает воспитание не меньше, чем природу. Она дает новую возможность рассматривать влияние среды, в особенности семейной, на наследственность. Действительно, одно из наиболее важных открытий в области генетики поведения за последние годы касается именно воспитания.
...Сложность взаимодействия среды и генотипа наиболее отчетливо видна в период развития. Низший круглый червь, например, прославился тем, что стал первым многоклеточным организмом, у которого благодаря составлению полной схемы проводящих путей нервной системы и картированию многих из 2000 его генов была прослежена судьба всех 959 клеток, происходящих от исходной оплодотворенной яйцеклетки. Но при этом мало что удалось узнать о генетике развития, если не считать представления о ее сложности. Ясно, что развитие не закодировано в ДНК тем же способом, как триплетный код определяет последовательность аминокислот в белках. И поэтому упрощенный детерминистский взгляд — не лучшая основа для размышления о генетических влияниях на развитие поведения круглого червя, а тем более детей.
Вывод из всего сказанного - вполне определенный: поведенческие реакции (неосознаваемые автоматизмы или "динамические стереотипы") могут фиксироваться только в третичных зонах мозга, а корректироваться - сознательно. В более ранних зонах - формируются просто распознаватели признаков, специфичных к видам рецепторов (первичные зоны - наиболее раннее развитие) и распознаватели признаков разных видов первичных зон (вторичные зоны, - значительно более позднее развитие). Понятно, что на уровне генома все это записть невозможно.
А просто программа активации синтеза белков в зависимости от окружения в геноме приводит к тем или иным далеким последствиям в примерно одинаковом окружении. Если окружение окажется иным в те моменты, когда специфика программы генома критична к этому, результат будет иным.
Резюме:
На мой взгляд, решающую роль в реализации наследственных механизмов играют два принципа. Первый - аксиоматический (потому, что вытекает из логики причинно-следственного развития систем вообще): Этот принцип касается не генетики и даже не биологии, а эволюции в самом широком смысле, в том числе неживых образований. Именно в таком плане это описывается в статье. Хотя нас интересует его приложение в вопросах наследуемости и определения формы.
Вот пример. Возьмите каплю чернил и начините капать ее с одной и той же высоты в 1 см. на салфетку. Вы получите круги, внутри чернильного цвета, далее по радиусу - водяные (граница хроматографии чернил на салфетке). Они все одинаковые. Нужны ли какие-то поля, чтобы записать форму получающихся капель? Нет. Начнем капать на другой вид бумаги - чернильные радиусы станут другими.
Понятно к чему все клонится?

Результат той или иной формы эволюционно вовсе не был задан строго заранее ни богом ни каким иным путем. Он таков, какой выходит из общих законов термодинамики, химии, физики, - из законов причинно-следственных связей. У человека внешний вид таков, каков он получился при развитии в определенных условиях с учетом того, что оставалось не в не противоречии этим условиям, иначе это отсеивалось. Форма тела у нас такая, какая получилась при мутациях и отборе наиболее жизнеспособного. Генетический материал в этом плане эволюционно отбракован среди других молекул как нечто, что способно развиться в определенных условиях опять в организм, способный существовать в данных условиях. Но если условия окажутся другими, то и результат, форма станет другой (если только организм еще окажется способным развиваться в таких условиях).
Второй принцип - в том, что при развитии от первой клетки, особенности каждого последующего деления определяется уже достигнутым новым состоянием, которое активизирует ту часть генома, которая эволюционно возникла для создания этого состояния организма. Т.е. переход от одноклеточных к многоклеточным потребовал дополнение генома тем, что заставляет клетку делиться вообще, далее все новшества в дальнейшем развитии организма так же постепенно формировали и дополнительные фрагменты в геноме, которые активизируются в момент соответствующего этапа развития организма.
Наглядно пример реализация этого принципа был описан в статье: Наследственный механизм регуляции роста коренных зубов
Даже не вдаваясь в подробности механизмов реализации этого принципа, понятно как он связан с эволюционными процессами. Кроме того, ясно, что вовсе не нужно запоминать план всего организма на уровне носителей наследственности, а лишь только тот пусковой механизм, который в данных условиях развития приведет к определенному результату и будет корректироваться на узловых этапах развития, активизируя соответствующие фрагменты генома, - пусковых для особенностей развития, в каждом из участков развития организма.